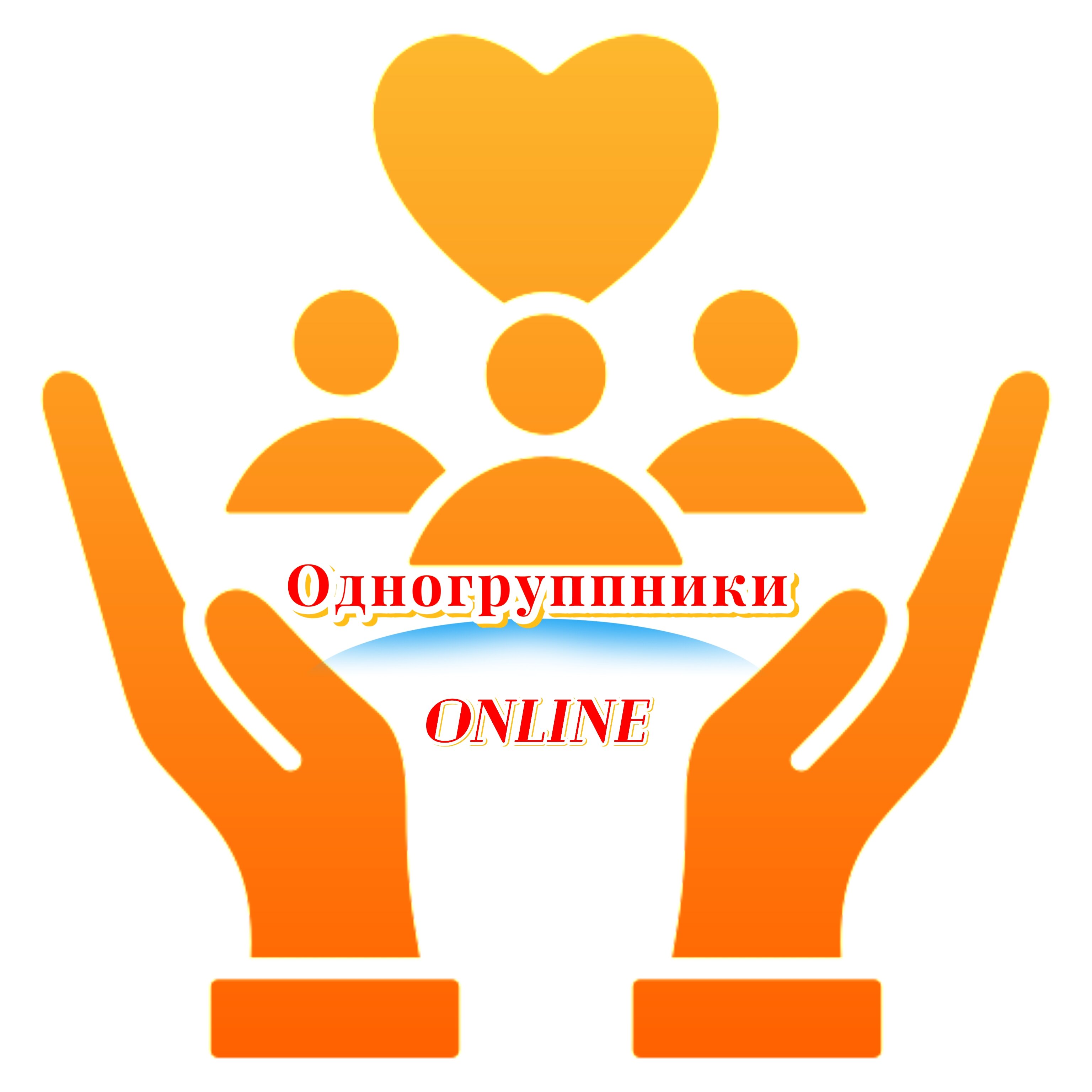- · Друзья: 34
-



 Подписчики: 35
Подписчики: 35
БЕЗ ЛЕТОВА (часть 1)
19 февраля 2008 года в Омске умер Егор Летов. «Афиша» поговорила о том, как возникали, жили и действовали песни «Гражданской обороны», с людьми, которые имели самое непосредственное отношение к созданию и распространению музыки Летова в последние десять лет.
«В песнях нет ни одной случайности, это все сплошная конкретика»
Наталья Чумакова
басист «Гражданской обороны» (1998–2008), вдова Егора Летова
«Я очень хорошо помню, как первый раз услышала «Оборону». Был 1989 год, питерский рок-фестиваль. Я тогда училась в Москве, но в Питер ездила постоянно. Мы вместе с подружками — Таней Алешичевой и Олей Машниной, которая тогда еще была никакая не Машнина, — потопали на этот фестиваль. До того я знала, что есть такая загадочная и таинственная группа, вокруг нее было много мифов: мол, это мальчик 17 лет, только из психушки вышел… В общем, наверное, на фестивале кто-то еще играл, но я этого не помню. «Оборона» выступала втроем — не было то ли Кузьмы, то ли Джеффа, поэтому Егор играл на гитаре, не прыгал, все было очень статично. Но энергия была такая, что нас всех просто накрыло с головой. Я помню, что после концерта мы все вышли, пошли по Рубинштейна молча, и вдруг Таня остановилась посреди лужи и села в нее. Слов не было вообще. У меня все координаты сразу поменялись в голове. И жизнь поменялась. Я тут же поняла, что возвращаюсь в Новосибирск, потому там все настоящее, — и уехала.
На самом деле я вообще очень поздно рок услышала, буквально за год до того. То есть до этого я в школе попросила одноклассников-парней: мол, запишите мне рок. Что-то они записали, я послушала, мне не понравилось совершенно. А потом оказалось, что это была группа Rainbow! (Смеется.) И когда я стала учиться в Москве и поняла, что рок — это нечто другое, начала ходить уже на все подряд. Сначала на русские группы. Потом, когда в Москву приехали World Domination Enterprises и я увидела их концерт, стало понятно, что русский рок по сравнению с этим — говно и ни в какие ворота не лезет. И я думала, что наши так просто не умеют. Но когда увидела «Оборону», поняла, что умеют, и некоторые еще и похлеще. И дальше я уже слушала Joy Division, панк, постпанк, западную музыку и играть тоже училась на ней.
Мы с Егором два раза знакомились. Первый раз они у меня случайно остановились, когда были похороны Янки, но мне было настолько неловко, что я к ним почти не подходила. Помню, Зеленский (участник группы Янки «Великие Октябри», сотрудничавший также и с «Гражданской обороной». —Прим. ред.), с которым мы были до этого знакомы, позвонил в дверь. Я ему открываю. Он спрашивает: «У тебя точно никого нет дома?» Нет, говорю. Тогда он командует за дверь: «Заносите!» И, кажется, Джефф (Игорь Жевтун, гитарист «Гражданской обороны». — Прим. ред.) с Климкиным (барабанщик группы. — Прим. ред.) занесли Егора за руки и за ноги, положили на диван в большой комнате и поставили тазик на всякий случай. А утром мне в этой комнате что-то надо было. Я захожу, человек лежит, видит меня, приподнимается и спрашивает: «Простите, пожалуйста, я не помню, как здесь оказался. Я здесь никого не обидел?» Я была сражена просто наповал. Ну, панк-рок, да? «Я здесь никого не обидел?»
Они меня тогда поразили страшно: трагедия у людей, а они сидят на кухне, выпивают, хохочут, шутят. Чувствовалось, что это такое отношение к жизни: когда все на пределе, все безумно интенсивно. Не то чтобы истерика, скорее такой крайний надрыв, когда одновременно и счастье, и горе, когда это одно и то же. Они ставили музыки всякие, которые Янка любила, плясали под них, прыгали, родительскую люстру расколотили… И уехали. А снова приехали через шесть лет.
И там был уже совсем другой сюжет. При этом у меня в тот момент был по отношению к «Обороне» некий скепсис: я совершенно не понимала, что эта за история с коммунистами, с политикой… И вот они приехали, и меня абсолютно потрясло, что он именно такой, какой есть. Что там нет ни грамма вранья, никакой рисовки, ничего. Что он абсолютно настоящий. Это было невероятно. Я не могла поверить, думала, что откроется обязательно какое-нибудь второе дно, ну не может его не быть, — но оно так и не открылось. Так и было все. И когда он меня позвал играть… Ну, страшновато было ехать, конечно. Но в «Спартак», как говорится, два раза не зовут.
Конечно, на концертах существовал определенного рода диктат. Группе все-таки было уже очень много лет. Что я могу диктовать, если я до того два раза на сцене играла. Естественно, слушаешься. У Егора были все требования осмысленные и правильные. Плюс он всегда хотел, чтобы люди вносили что-то свое. Особенно на записях. Чтобы придумывали, сочиняли, изобретали. Ему очень не хотелось писать сольники. Хотя в принципе, конечно, после ухода Кузьмы в той или иной степени это были сольники. Главное было — чтобы музыкант понимал, как надо, а техническое совершенство — это уже дело второе.
Этот звук с огромным количеством наложений объясняется очень просто. Когда пишешься в цифре, звук получается очень плоским, и без наложений не обойтись. Поэтому писались три гитары в унисон обязательно, голосов несколько. Тут чисто технические моменты. Изначально аппаратура-то была довольно примитивная, это уже к «Зачем снятся сны» возник хороший микрофон, на котором можно было два голоса прописать, — и все. От примочек это тоже зависит. От гитар. Даже когда переборы — мы писали две гитары: Чеснаков (Александр Чеснаков, гитарист последнего состава группы. — Прим. ред.) их на двенадцатиструнке выводил, потел, пальцы стирал… Когда мы ближе к концу уже перешли на Rickenbacker двенадцатиструнный, все стало совсем по-другому, он сразу все иначе раскрасил. Без этой гитары «Зачем снятся сны» не были бы записаны, это совершенно точно. Когда появляется новый инструмент, меняется и музыка, и даже стиль. Это все не мелочи, Егор к этому очень серьезно относился.
Записываться дома — это был принципиальный момент. У Егора было два опыта записи в чужой студии, и они его абсолютно не устроили. Там невозможно добиться того, что ты хочешь, потому что влезет звукооператор, потому что техника чужая, ограничение по времени. А тут ты в любой момент встал, пошел в другую комнату — и пишешься в таком состоянии, в каком надо, никто не отвлекает, не мешает. Ему было важно контролировать обстановку, в которой он будет что-то делать. Поэтому нам тяжело дался переход на компьютер: когда что-нибудь зависало или я просто не знала, как сделать, — приходилось же на ходу учиться, — он страшно бесился. Начинал кричать: «Лучше бы я на «Олимп» писался, сейчас у меня все перегорит, пока ты там это, я компьютер выкину в окно…» Но в итоге все, естественно, получалось.
Я до сих пор иногда вижу, что пишут: мол, играть не умели, в музыке не понимали ничего. Это так смешно. Человек слушал все с шести лет, знал музыку доскональнейшим образом. Каждый вечер буквально находил в какой-нибудь энциклопедии огромной очередную психоделическую группу восьмого порядка и тщательно изучал, кто на чем играл. И все это помнил. Ранний рок, новая волна, семидесятые, прогрессив, авангард — все это он знал прекрасно. Разве что в совсем современных молодежных группах не разбирался, какой-нибудь убогой попсне. Но даже если он подробно не слушал, то был в курсе. У нас были в Омске друзья, которые торговали пластинками, мы постоянно у них заказывали — и раз в две недели приходило по сто дисков, по двести. У меня до сих пор лежат горы этих списков, которые он составлял по энциклопедиям, чтобы делать заказы. Еще у нас тогда был плохой интернет — так я в Москве с хардами приезжала к Ване из группы The Cavestompers, он мне перекидывал свои залежи гаража и всего прочего, и мы уезжали слушать. Даже в mp3 — все равно же любопытно. Причем Егор любил именно ставить диск — поэтому я научилась разжимать файлы, переписывать их на CD, обложки находились в интернете, распечатывались. Так себе, конечно, получалось, но было важно, чтобы был диск, была обложка, чтобы можно было в руки взять.
Какой концерт получается, сразу было очевидно: отдача же чувствуется моментально. И все зависело от публики, конечно. Бывает — ну вроде маленький городок, ничего особенного, видишь человека в майке Deep Purple и понимаешь, что он вынул из шкафа свою единственную рок-майку и пришел, — но народ отличный, отыграл и уходишь со сцены счастливый. А в Питере, например, всегда был какой-то ад, там всегда невиданное количество совершенно озверелых людей ходило. То газом брызнут в зале, то двери высадят… Это была очень смешная история. Мы сидим в гримерке, а рядом дверь, которая ведет прямо на улицу. И народ, видимо, понял, что можно расковырять и ворваться. Схватили какое-то бревно и стали вышибать дверь. Охранники переглянулись, встали возле двери, бревно пробивает дыру и к нам залетает, а они за него схватились, как дернули — бревно внутри, а все, кто снаружи, повалились. Вот такой штришок. То есть это, конечно, энергия, но не больно хорошая. В Москве в этом смысле играть было гораздо лучше.
Публика оголтелая, конечно, напрягала. Кинотеатры, «Марс» этот знаменитый; дикий угар, штурмы ДК, водометы, ревущая масса, которая и не слушает ничего, а просто пришла ради вот этого угара… Не всегда это здорово. Такие бывали рожи, что глянешь и думаешь — буду лучше в потолок смотреть. К счастью, примерно к 2006 году это изменилось, появились совершенно другие лица, люди, которые, может, и раньше бы хотели прийти, но не решались, — потому что там все в говно, все дерутся с ОМОНом, да еще и звук никакой. И конечно, все это надоедало. И «По плану» играть надоедало. Но с другой стороны, Егор где-то в офлайн-интервью хорошо сказал: вот мы приехали в этот город единственный раз — и как не сыграть ее этим людям? Они, может быть, всю жизнь мечтали эту песню услышать.
Первый мой концерт я отлично помню: это был ужас и кошмар натуральный. Потому что ты сходу выкатываешься в Дворец спорта — это были «Крылья Cоветов». Огромная толпа, совершенно дикий 1998 год, Лимонов перед концертом орет какие-то лозунги, полное безумие. Помню, я на какой-то песне вообще забыла, как ее играть. Пришлось бас отдать Махно (гитарист группы, умер в 1999 году. — Прим. ред.). Еще Егор на этом концерте умудрился прыгнуть в зал — причем поступил очень умно и прыгнул не туда, где парни, а туда, где девчата. И девчата его как схватили! Он оттуда в итоге еле выбрался — весь в синяках, без майки, охране пришлось за ноги тянуть. Больше он никогда так не делал. А я, когда увидела, вообще бросила играть с перепугу — ну, думаю, сейчас разорвут. Вообще, если серьезно, я всегда стеснялась. Я вообще не любитель публичности, и это, конечно, было довольно тяжело. Иногда выходишь, бежишь к автобусу, а они за тобой, как в «Ну, погоди!». И страшновато тоже иногда было.
На гастролях временами было такое веселье, что в конце концов мы вынуждены были максимально самоизолироваться. Потому что иногда приезжаешь, а тебе говорят: а вы же за идею играете? А зачем вам гостиница, давайте у нас поживите, жена суп сварила. Или, помню, приезжаем в город Курган, там тоже привозят в квартиру, и стол накрыт: колбаса нарезанная, хлеб и самогон в огромном количестве. Мы говорим: перед концертом не пьем. «Не пьете? Ну тогда вот». И достают вместо самогона ящик портвейна. То есть люди зачастую не думали совершенно, что это серьезная и тяжелая работа. А потом концерт прошел, посиделки закончились, и ты грузишься в какой-нибудь душный поезд, где дети вопят, или в микроавтобусе едешь полночи по колдобинам. Бывало очень тяжело.
Футболом Егор увлекался, потому что это тоже настоящее. Там много всякой ерунды, конечно, но все-таки там все как на ладони. Либо играешь, либо нет. Все очевидно. Это такая модель жизни очень красивая. Егор всегда болел, что называется, за дух футбола и пристрастия менял, как перчатки. Бывало смешно. По-моему, в последнее время он собирался болеть за «Крылья Советов», потому что там Слуцкий был. А я же спартаковская с детства. Ну, что делать. Мы из-за этого сцеплялись постоянно. Хотя при этом он говорил, что, когда записал «Значит, ураган», про Романцева думал. Мы следили за всеми подряд. За английским чемпионатом тоже. Я за «Манчестер» болею, а он стал за «Челси». Причем как раз после Абрамовича, что, конечно, на мой взгляд просто ни в какие ворота. (Смеется). Но так же интереснее — чтобы за соперников болеть, чтобы подраться можно было. Мы же, кстати, и познакомились на этой почве во второй раз — они заговорили о футболе, я думаю: ага, наконец будет, с кем поболтать. И мы проговорили всю ночь, и про музыку речь даже не зашла ни разу. Только уже через несколько дней кто-то ему случайно сказал, что я играю на басу. И вот так все совпало.
Я только тогда многие песни поняла по-настоящему, когда очутилась внутри. Мне многие образы казались абстрактными, в голову не приходило, что там нет ни одной случайности, это все сплошная конкретика. Я это поняла уже потом, когда песни стали писаться при мне. Что, надо сказать, случилось нескоро — где-то году в 2002-м. До того песен не было, и это было тяжело. Он дико переживал, дико. Были моменты страшного отчаяния. «Все, мне больше нечего сказать, это конец». Но потом, когда они пошли потом, это было счастье — и оно уже не прекращалось. И конечно, когда ты это узнаешь внутри, все меняется. Когда мы сидели ранние альбомы пересводили, я очень много про них всего узнала. Доходило до смешного. Он говорит: «Слышишь, соло спи…жено у — ну условно — The Clash?» Я говорю — не слышу. И он мне ставит этот The Clash, и я понимаю, что да, наверное, чем-то похоже, но так, что и не угадаешь никогда. И конечно, каждый раз то, как он писал песни, было совершенно поразительно. Вдруг человек встал посреди ночи и ушел в другую комнату. И утром выходишь — а там уже какие-то наброски, которые могли родиться из совершенно бытовых вчерашних вещей. Ну, условно, что у нас был потоп, и потом — «Солнце неспящих»: «вдруг тряпка застряла в руке, словно глотка в твоей голове». Или: «падающие гардины, летящие чашки и чайники» — у нас началась какая-то мистика, электричество все вылетело. То есть какая-то бытовуха давала совершенно удивительные ответвления в стихах и песнях. Очень здорово. Ну а про трипы я не говорю — там и так все понятно.
Про «Зачем снятся сны» я могу вот что сказать. Егор всю жизнь до этого альбома песни писал в основном на страшном негативе, на энергии ненависти. Я очень хорошо знала эти моменты: когда он в дикое бешенство приходит от чего-то, начинается атмосфера полного безумия — скорее всего, это выльется стихом или песней. Причем на любые события — хоть бытовые, хоть политические: бомбардировка Ирака или фильм по телевизору страшный — все могло вызвать прилив ненависти, как нынче говорят, «ко всему плохому». Так было всегда, он так привык. И «Зачем снятся сны» — это был совершенно внезапный и очень странный перелом. Весь этот альбом записан на энергии света. И в этом смысле, я думаю… Ну, он часто говорил: может быть, этот альбом последний, следующий последний. Но этот стал очевидно последним. Я его буквально несколько дней назад переслушивала — он невероятный, конечно. Я думаю, он пока еще просто не понят.
«Когда заходили в «Трансильванию», продавцы сразу начинали шелестеть: «Летов пришел»
Сергей Попков
директор «Гражданской обороны» (1998–2008)
«Мы с Егором познакомились на так называемой «Туче» — это был толчок, вещевой рынок в Омске, где по воскресеньям в определенное время в определенном месте собирались пластиночники. И среди прочих — я и Егор. Там мы и сошлись на музыкальных интересах общих. Основной-то массе и тогда, и сейчас был интересен, условно говоря, Deep Purple. А панк и нью-вейв считались дурным тоном — мол, слушают этот какие-то дурачки и идиоты. Естественно, эти дурачки и идиоты объединялись. И потом, уже позже, я был достаточно популярным диджеем в Омске — и узнал, что Егор пишет «Красный альбом». И вскоре получил его из первых рук. И услышал. И очень мне это дело понравилось. Поскольку я уже какую-то музыку знал, голова и уши к таким песням уже были прилично готовы — а там оказались еще и тексты с хуками, которые ложились отлично на мозг. Тот же «Зоопарк», «Детский мир», «Сквозь дыру в моей голове» и так далее. Это сейчас мы к ним привыкли, а тогда — ну вот представьте. На подготовленное мое поле были какие-то семена брошены.
Несмотря на специфику Омска и страны в целом, все-таки были места, где музыку можно было купить. Возили винил партиями с Ленинградского завода; иногда ездили в Прибалтику, где, естественно, с волной обстояли дела гораздо лучше. В Сибири же единственным оплотом подобной музыки был Новосибирск, куда мы тоже ездили — либо покупать, либо выменивать свой Deep Purple. Ну и еще были морячки. У нас, конечно, их было куда меньше, чем в Питере или Владике, и все равно — доходило и до нас. Но у морячков селекция была странная. И к тому же все это оседало внутри очень маленькой группы людей и не представляло решительно никакого коммерческого интереса. Я помню, мне случайно попались свежие запечатанные американские издания Curved Air, Боба Дилана, Заппы, свежих Roxy Music… И я это никуда не мог деть! Меня попросили это продать — но я в итоге просто себе оставил. «Дилан? Это кто? Под гитару поет, что ли?» Тогда же была единственная книжка про рок-музыку какого-то советского посольского журналиста, там, среди прочих, был Боб Дилан, и про него было написано: фолк-певец. И все, это был крест навсегда. Но так или иначе, все это через меня проходило, и когда я услышал «Оборону» — я был готов.
Торкнуло меня в 1975 году, когда я впервые послушал пластинки. Естественно, я тут же сколотил собственную банду, сам научился на барабанах играть — и поперли. Первый наш коллектив назывался «Трувера», потом, когда чуть не посадили нашего художественного руководителя, мы остались одни и поменяли название на The Crossroads. Смешно, но как теперь я понимаю, мы играли такой, что ли, гаражный панк. Хоть и знать не знали, что это такое. В качестве примера у нас был сборник классического рок-н-ролла, Slade, Uriah Heep и Гари Глиттер. У нас даже была локальная известность, но потом я понял, что технически я как барабанщик не вырасту, — и перешел в диджеи. А впоследствии осознал, что больше сделаю как администратор.
Как я теперь понимаю, в 1980-х повторилась история с 1960-ми, когда был период полной свободы и бесконтрольности со стороны властей. Потому что они просто еще не понимали, что происходит. Это же был парадокс — когда в зале заседаний обкома ВЛКСМ, в самом высоком здании в Омске сидят всякие секретари комсомола, вместе с ними — толпа немытых волосатых бешеных персонажей, и они мирно беседуют о том, чем помочь советскому рок-движению. Понятно, что по приказу, но тем не менее они как-то пытались помочь. Но у Егора был особый случай. Он настолько отличался от всего прочего, что там, видимо, поняли, что вот это — не игры. То есть со всеми остальными разговаривали так — ну музыканты чудят, что-то там про луну, любовь-морковь, подростковые дела. А у «ГО»-то совсем другая история. Система-то не спит, она только притворяется спящей — и она прекрасно понимает, кто есть кто. Там сидели люди с ярко выраженным инстинктом самосохранения, преследования и уничтожения. Просто реальных людей, которые представляли угрозу, было по пальцам пересчитать.
В какой-то момент оказалось, что Егор за мной довольно долго наблюдал. И когда мы делали фестивали в омском рок-клубе, и когда концерты организовывал — группе «Пик Клаксон», Ивану Моргу, другим. Егор мне сам потом сказал, что окончательное решение о сотрудничестве он принял на похоронах Жени Лищенко (один из основателей группы «Пик Клаксон», также сотрудничавший с «Гражданской обороной». — Прим. ред.), когда мне пришлось распихивать тела гостей по такси. В общем, Егор на все это смотрел, смотрел на своих администраторов — и однажды позвонил мне. И с июня 1998года я стал директором «Гражданской обороны».
Я для себя музыку «Обороны» на периоды не разделял никогда. Для меня первый и второй период, 1980-е и 1990-е — достаточно монолитные. Понятно, что человек растет, — но ведь и у меня самого несколько жизней, и друг на друга эти люди абсолютно не похожи. Их объединяет только имя, родители, происхождение, паспортные данные. И я допускаю, что так же происходит с остальными. Настоящие новые открытия у меня начались, когда я начал заниматься «ГО». До этого ведь я не видел живых выступлений ни разу. В Омске они не выступали принципиально, в других городах тоже как-то не пересекались. А потом я увидел, и… Ну, почти всякий раз что-то поражало. Этот серьезнейший подход к концертам, невероятная самоотдача. Притом что Егор не любил концерты совершенно, рассматривал их на каком-то этапе уже как необходимость, данность.
Я считаю, что «Оборона» была одним из сильнейших концертных коллективов во всем нашем времени и пространстве. Егор — очень мощный вокалист. Он во все обертона и ноты попадал идеально. При этом там еще и перла дикая энергия, которую никто не пытался сохранять и дозировать. Все ухайдакивалось сразу — и каждый раз после концерта ты как выжатый лимон. Почему одно время выступления длились час десять? Просто тяжело было физически. Ребята, да вы наденьте электрогитару на плечи и просто постойте часа полтора. А если вам при этом надо на ней делать музыку, что-то исполнять, прыгать, бегать? Там были жуткие затраты энергии — и физической, и эмоциональной.
Про памятный концерт в «16 тоннах» (акустический концерт Летова в «Тоннах» состоялся осенью 2001-го и знаменит тем, что Летов не смог допеть до конца ни одной песни. — Прим. ред.) сейчас уже можно сказать, что это была намеренная акция Егора. Он спросил — ну, что за клуб? Ну буржуйский такой, для жирных. Ах, буржуйский… Стало быть, надо в буржуйском клубе и показать.
Концертная публика делилась по большому счету на две части: так называемое «мясо», оголтелые люди в тельняшках и с ирокезами, — и интеллектуалы, как правило, стоявшие где-то на задниках. Для вторых зачастую все и делалось, потому что передние ряды и так радовались. При этом люди бывали самые разные. Помню, приезжаем в Израиль с акустикой, я по делам каким-то бегаю и вдруг вижу — на входе стоит и ревмя ревет девятилетний пацан. В косухе, в железе, во всех пирогах. Чего ревешь? — спрашиваю. А он говорит — мол, охранники браслеты отобрали. Ну я договорился, чтоб вернули после концерта. С другой стороны, в «Марсе», где был безумный концерт с разбитыми витринами и пожарными брандспойтами, всю дорогу дико плясала бабушка в синем халате, местная уборщица. А потом еще и прорвалась в гримерку с афишей для автографов: «Ребятки, вообще ништяк! Так держать!»
Зарабатывала группа ровно столько, чтобы хватало на скромное существование, обновление студии — ну и, естественно, на коллекцию. Помню, когда мы оказались впервые в Сан-Франциско в Amoeba Music — все деньги там и остались. Вывезли целую телегу пластинок и потащили это все в Россию. А когда в Москве заходили в «Трансильванию», продавцы сразу начинали шелестеть: «Летов пришел, Летов пришел». Это означало, что сейчас будут хорошие продажи — причем продаваться будет то, что никто не покупает.
У Егора на музыку была удивительная память. Он легко оперировал составами, названиями, годами — ну, в своем направлении, во всяком случае. И при этом он не был зашоренным слушателем совершенно и умел понять, кто чего стоит. Он говорил, что если поп-музыка сделана качественно и новаторски, то она тоже заслуживает внимания — хотя бы с точки зрения профессии. В частности, за это он любил ABBA, «Дискотеку Аварию». Помню, очень ему понравилась песня Меладзе «Цветок и нож», он считал, что это достижение поп-культуры. Ну и советские ВИА, естественно, — «Песняры», «Поющие гитары», у которых был серф настоящий.
Егор себя прежде всего считал поэтом и художником и уже потом — музыкантом и певцом. Просто вот так сложилось — эти проявления его личности оказались более востребованными, соответственно, через них можно донести то, что через него транслируется. Потому что именно это было важным: труба; то, что через него идет в мир. И труба эта открывалась только при определенных обстоятельствах, которые достигались не всегда приятными способами. В пограничных состояниях, когда обострялись чувства, слух, зрение — все. При этом работа шла постоянно, во всех поездках. Сидит Егор — и вдруг начинает что-то записывать или наговаривать в телефон. Еще он любил гулять по лесу — там можно было достичь какого-то особого состояния, другого уровня.
Когда в 1998-м перестали писаться песни, это был настоящий кризис. Очень тяжело было. Депрессия; казалось, что все закрылось. А потом — бах! — и пошли эти поздние альбомы. Потому они и стоят особняком. Предыдущие тоже, конечно, выстраданы, но эти… Они как открытие новой земли после долгого плавания в тумане среди айсбергов. И уже и солонины не осталось, и зубы выпадают, и солнца не видно, и компас сломался, — и тут ты видишь землю.
Егор был еще и продюсером от Бога. Он умел четко определить задачу, вдохновить, направить, показать; если нужно — заставить. Потому что — ну вот ты пойди объясни музыканту, что нужно записать двадцать гитарных партий одну на другую, причем все из них разные, и каждая могла бы стать неплохой отдельной песенкой. Так смешно после этого, когда видишь молодых музыкантов, которые придумают какую-нибудь мелодию и носятся с ней, как с писаной торбой… Там уходило таких мелодий двадцать на одну песню. И в результате получался некий шум. С точки зрения ординарного человека, это разбазаривание материала — но ведь на уровне подсознания ты все эти 20 мелодий слышишь, и все они работают.
Егор неслучайно говорил, что песни — это дети. Они ушли, и фиг знает, что там с ними дальше происходит. Один стал проповедником и гуру, другой — наркоманом, третий еще кем-то. А в начале все были розовыми ангелочками, и ты их породил. Я думаю, отчасти этим обусловлена была его принципиальная чайлдфри-позиция. То есть ребенок должен быть свободным, а если его освободить, то черт его знает, что получится. Большинство мирится с этой дилеммой, а Егора такой авось не устраивал совершенно.
Многие понимают постулат «Я всегда буду против» как тупую подростковую агрессию. Это совершенно не так. Речь идет об абсолютно сознательной стратегии, которая напрямую кореллируется с идеей чистой анархии. Которую у нас никто толком не знает — никто же Кропоткина не читал, в последователях не разбирался. Егор потому так и любил и уважал Нестора Ивановича Махно, что он создал ярчайший пример настоящего народовластия. Анархия — это не безвластие, это народовластие без пастухов. И «Я всегда буду против» — значит против абсурда окружающей жизни, против этой кафкианской реальности.
Что касается религии, про которую часто спрашивают… Я могу сказать так: перед каждым концертом Егор заходил в церковь; или, во всяком случае, мы проезжали мимо церкви. Это было важно. А в Израиле была странная ситуация: священник возьми да и скажи — мол, времени мало, 200 баксов, все быстро решим. Егора это привело в дикую ярость. Мы посидели, подумали и вспомнили, что у староверов есть правило, что возможно самокрещение, — что когда физически нет рядом священнослужителя или когда ему не доверяют. Так и решили. Я к тому, что его вера — это еще одна придумка людей, а у Егора она была абсолютно своя».